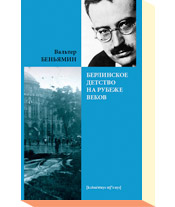
Берлинское детство
Кабинетный ученый
Вальтер Беньямин Телефон То ли аппараты так устроены, то ли память — могу сказать лишь одно: уже ставшие отголосками прошлого шорохи, которые сопровождали первые телефонные разговоры, звучали не так, как нынче. Те шорохи были ночными. Ни одна муза не соединит вас с ними. Они прилетали из той ночи, которая предшествует рождению всего поистине нового. Новорожденным был и голос, до поры до времени дремавший в телефонном аппарате. Мы с телефоном братья-близнецы — родились в один день и час. Мне довелось быть свидетелем того, как он оставил в прошлом все унижения первых лет своей жизни. Ведь как раз тогда, когда бесславно сгинули и были забыты люстры, каминные экраны, консоли, сервировочные столики, пальмы в кадках и балюстрады перед эркерами, прежде горделиво красовавшиеся в гостиных, телефонный аппарат, подобно легендарному герою, брошенному на произвол судьбы в горной теснине, выбрался из темного ущелья коридора и триумфально прошествовал в залитые ярким светом комнаты, обжитые молодым поколением. И стал для молодых утешением в одиночестве. Отчаявшимся, решившим покинуть земную юдоль, он дарил свет последней надежды. С покинутыми он делил ложе. Пронзительный голос прорезался у него в эмиграции, а в первые годы, когда все с нетерпением ждали его призыва, он звучал приглушенно. Немногие, пользующиеся телефонным аппаратом, знают, какие разрушения производил он в семейном быту, когда только-только появился на свет. Звон, которым он нарушал тишину между двумя и четырьмя часами дня, если школьному товарищу хотелось со мной поговорить, раздавался словно сигнал тревоги, он возвещал об опасности, нависшей не только над послеобеденным отдыхом моих родителей, но и над всей эпохой, лелеявшей их сон. Регулярно происходили препирательства с чиновными ведомствами, не говоря уже об угрозах и громовых проклятиях, которые мой отец обрушивал на какую-нибудь инстанцию, куда звонил с жалобой. Однако в подлинный экстаз отца приводила ручка телефона, которую надо было крутить, — этим оргиям он предавался самозабвенно и подолгу. Сжатый кулак отца был словно вертящийся до умопомрачения дервиш. А у меня при виде этого сильно билось сердце, так как я не сомневался, что телефонной барышне не избежать оплеухи в наказание за нерадивость. В те времена телефон, уродец и изгнанник, висел на стене по соседству с коробом для грязного белья и газовым счетчиком, в углу черного коридора, что вел в кухню; звонки его, доносившиеся оттуда, усиливали и без того немалые страхи, обитавшие в берлинской квартире. Когда же я, ощупью пробравшись по темной, без малейшего проблеска, кишке коридора и мало-мальски опомнившись, срывал с телефона, чтобы прекратить наконец этот мятежный звон, обе его трубки, тяжелые как гантели, и прижимал их одну к уху, другую к подбородку, — с этого мгновения я был немилосердно отдан во власть голоса, раздававшегося в аппарате. Ничто на свете не могло ослабить мощный натиск этого голоса. Я был бессилен, я страдал, боясь, что он разобьет все мои планы, замыслы и обязанности; как медиум повинуется голосу, повелевающему ему из иного мира, так соглашался я с первым же предложением, если оно делалось по телефону. Ловля бабочек Не отказываясь от путешествий, случавшихся время от времени, мы каждый год, пока я не пошел в школу, на лето снимали дачу в окрестностях Берлина. И долго еще мне напоминал об этом летнем житье большой ящик, висевший на стене в моей комнате и хранивший то, что было началом моей коллекции бабочек. А первые ее экземпляры я раздобыл в саду на склоне Пивоваренной горы. Капустницы с обмохрившимися крылышками, лимонницы с осыпавшейся пыльцой воскрешали в моей памяти дни, когда, в пылу охоты, меня уносило прочь с чистеньких садовых дорожек в заросли, где я безраздельно покорялся власти заговорщиков: ветра и благоуханий, листвы и солнца, которые, быть может, правили и полетом бабочек. Они порхали среди цветов и вдруг повисали над каким-нибудь одним. Я, приподняв рампетку, ждал той минуты, когда колдовская сила цветка иссякнет и перестанет поддерживать мотылька, но тут это крохотное существо легко отлетало прочь и замирало в воздухе уже над другим цветком, а затем, даже не коснувшись лепестков, столь же внезапно покидало и его. Когда какая-нибудь крапивница или шоколадница, которую я запросто мог бы догнать, все-таки оставляла меня в дураках, обманув своей нерешительностью, колебаниями, медлительностью, мне хотелось раствориться в свете и воздухе, только бы незаметно подкрасться и завладеть добычей. Это желание исполнялось, но лишь в том смысле, что при каждом взмахе или трепете крылышек, от которых я был без ума, ко мне как будто доносилось их веянье и, ощущая его, я и сам трепетал. Действовал старинный закон охоты: чем больше я всеми фибрами души льнул к добыче, чем более мотыльковым становилось мое существо, тем больше и мотылек с его порывами и метаниями приобретал нечто человеческое. И в конце концов мне казалось, что, лишь поймав мотылька, я смогу откупиться и снова стать человеком. Однако, если это и случалось, то как же труден был путь, которым добирался я с театра своего охотничьего счастья до бивака, где извлекал из ботанизирки эфир и вату, пинцеты и разноцветные булавки. А в каком виде оставлял я охотничьи угодья! Трава примята, цветы растоптаны, — ведь охотник, ударяя сачком, всем телом бросался наземь, но по ту сторону всех разрушений, неуклюжих порывов и насилия, в моей рампетке, цепляясь за кисею, трепетал насмерть испуганный и все же столь прелестный мотылек. На этом мучительном пути дух обреченного смерти создания переселялся в ловца. И тот постигал иные из законов незнакомого языка, на котором мотылек и цветок вели свой разговор. Жажда убийства ослабевала, и настолько же возрастала уверенность охотника в своих силах. В воздухе, в котором некогда порхал тот давний мотылек, ныне носится слово, которого я уже не один десяток лет ни от кого не слышал, да и сам не произносил. Оно сохранило нечто непостижимое, предстающее взрослому человеку в именах и словах его собственного детского языка. Долгая праздность придает этим словам нечто возвышенное. Вот так трепещет в воздухе, полном порхающих мотыльков, название «Пивоваренная гора». На этой горе близ Потсдама мы жили на даче. Однако название утратило массивность «горы», а от «пивоварни» и вовсе ничего в нем не осталось. Осталась лишь гора, облитая воздушной синевой, гора, летом вздымавшаяся над землей, дабы предоставить приют мне и родителям. И потому Потсдам моего детства полон столь густо-синим легким воздухом, словно все его траурницы, адмиралы, авроры и махаоны разбросаны по сверкающей лиможской эмали, на темно-синем фоне которой ярко выделяются стены и башни Иерусалима. Пульт Врач обнаружил у меня близорукость. И прописал мне не только очки, а еще и пульт. Причем очень остроумной конструкции. Сиденье можно было передвигать дальше или ближе к крышке, а крышка была с наклоном, чтобы на ней писать; на спинке сиденья имелась горизонтальная планка, подпиравшая спину; а что говорить о передвижном маленьком пюпитре для книги, венчавшем все это сооружение! Пульт, стоявший у окна, скоро стал моим любимым уголком. В скрытом под сиденьем ящике лежали, помимо книг, нужных для школьных занятий, мой альбом с марками и еще три альбома, заполненные коллекцией открыток с видами; на крепком крючке на боковой стенке пульта висели не только мой портфель и корзиночка для завтрака, а еще сабля от гусарской формы и коробка-ботанизирка. Часто, после школы придя домой, я первым делом, чтобы отпраздновать встречу с пультом, делал его местом какого-нибудь любимого занятия — скажем, брался за переводные картинки. Там, где обычно стояла чернильница, я водружал чашку с горячей водой, а затем начинал вырезать картинки. Чего только не покрывала мутная пленка, под которой они едва виднелись на больших листах или в тонких тетрадочках! Сапожник, согнувшийся над своей колодкой; дети, забравшиеся на дерево и срывающие яблоки; молочник у запорошенной снегом двери; тигр, который вот-вот бросится на охотника, а у того из ружья уже вылетает огонь; рыболов на зеленом берегу голубого ручейка; класс, почтительно слушающий учителя, который что-то объясняет у доски; галантерейщик в лавке, где полки ломятся от разноцветных товаров; маяк, и на волнах перед ним парусник, — все это подернуто туманной дымкой. Смоченные водой изображения тускло просвечивали под мокрой пленкой, а затем под моими пальцами, осторожно снимавшими, скатывавшими, стиравшими, ерзавшими туда-сюда. Наконец, толстый верхний слой сходил, превращаясь в тоненькие длинные катышки. На треснувшей, истерзанной пленке проступали, сначала мелкими пятнышками, приятные, неискаженные цвета, и в этот миг мне казалось, что хмурый, по-утреннему блеклый мир внезапно озаряет яркое солнце сентября и все в этом мире, еще влажном от росы, освежившей его перед рассветом, яркими красками встречает новый день творенья. Когда эта игра мне приедалась, находился какой-нибудь другой предлог, чтобы еще немножко потянуть время до приготовления уроков. Я с удовольствием перелистывал свои старые тетради, представлявшие совершенно особенную ценность: ведь я ухитрился уберечь их от посягательств учителя, который хотел их забрать себе. Я подолгу любовался оценками, которые он выставил красными чернилами, и тихо блаженствовал. Словно выбитые на надгробных камнях имена покойников, от которых тебе уже не будет ни горя, ни радости, стояли на полях отметки, давно передавшие свои полномочия оценкам, которые также стали достоянием прошлого. Еще одним способом, позволявшим — с еще более чистой совестью — проволынить часок за пультом, было приведение в порядок тетрадей и учебников. Книжки непременно требовалось заново обернуть в плотную синюю бумагу, а что касается тетрадей, тут даже правила были на моей стороне: промокашку в тетради следует прикрепить, чтобы не потерялась. Для этого были специальные ленточки всех цветов радуги. Концы ленточки прикреплялись специальными бумажными кружочками на обложке тетради и на промокашке. Если взор жаждал отрады, подбирали самые разные — нежнейшие или, напротив, кричащие сочетания цветов. Так что в этом смысле мой пульт имел сходство со школьной партой. Но он был лучше, потому что служил мне надежным укрытием и позволял заниматься такими делами, о которых парте знать не полагается. Мы с пультом держались заодно — против парты. И после унылого школьного дня засев наконец-то за пульт, я замечал, что он вливает в меня свежие силы взамен растраченных. Не просто как дома я мог чувствовать себя, а в укрытии, вроде тех, что можно видеть на средневековых картинах, где какой-нибудь монах, преклонивший колени на особой скамейке или сидящий за столом в скриптории, кажется одетым в броню. В этом логове я начал читать «Приход и расход» [«Приход и расход» — роман (1855) популярного немецкого писателя Густава Фрейтага (1816–1895), воспевающий средний класс и либеральное бюргерство.] и «Повесть о двух городах» [«Повесть о двух городах» — роман (1859) Чарлза Диккенса о временах Французской революции, самое читаемое произведение английской литературы.]. Я находил для чтения самый тихий час дня и пульт — самое укромное место в нашем доме. Устроившись, я открывал книгу на первой странице, и настроение у меня делалось приподнятое, как у путешественника, впервые ступившего на землю нового континента. Да это был и впрямь новый континент: Крым и Каир, Вавилон и Багдад, Ташкент и Аляска, Детройт и Дельфы на нем наползали друг на друга, в точности как золотые медали на сигарных коробках, которые я тоже собирал. И не было большей отрады для меня, чем сидеть вот так, отгородившись от всех орудий моей пытки: тетрадей для вокабул, циркулей, словарей, — и витать там, где не имели они надо мной никакой власти. Послесловие Теодора Адорно Уроженец Берлина, Вальтер Беньямин жил в этом городе вплоть до эмиграции. Далекие путешествия, длительное пребывание в Париже, на Капри, на Балеарских островах не заставили его изменить Берлину. Едва ли еще кто-то столь же хорошо знал жилые кварталы этого города; названия улиц, площадей, набережных и т. д. были Беньямину близки, как имена из Книги Бытия. Дитя старинной берлинской еврейской семьи, сын антиквара, он все, что еще не стало традиционным в новоявленной германской столице, воспринимал как укорененное в старине; новейшее было для него символом глубокой древности. «Берлинское детство» написано в начале 1930-х годов. Эта проза входит в число произведений Беньямина о начальном периоде эпохи модерна, над историей которого он трудился последние пятнадцать лет своей жизни, и представляет собой попытку писателя противопоставить нечто личное массивам материалов, уже собранных им для очерка о парижских уличных пассажах. Исторические архетипы, которые Беньямин в этом очерке намеревался вывести из социально-прагматического и философского генезиса, неожиданно ярко выступили в «берлинской» книжке, проникнутой непосредственностью воспоминаний и скорбью о том невозвратимом, утраченном навсегда, что стало для автора аллегорией заката его собственной жизни. Ибо в картинах, которые подступают даже чересчур близко, нет ни идиллического, ни созерцательного настроения. Их омрачает тень гитлеровского рейха. Как в сновидении, давнее прошлое в этих картинах соединяется со страхом перед немецким настоящим. С паническим ужасом буржуазная духовность, при виде того, как распадается аура ее биографического прошлого, осознает самое себя — осознает как мнимость. Вполне отвечает характеру «берлинской» книжки то, что при жизни Беньямина она, как цельное произведение, не увидела света: в полные лишений первые годы эмиграции писателю, нередко под псевдонимом, пришлось печатать многие отрывки в газетах, главным образом во «Франкфуртер цайтунг» и в «Фоссише цайтунг». Беньямин не успел установить определенной последовательности фрагментов, в существующих рукописях она различна. Однако везде последним идет «Горбатый человечек». Если в этом персонаже собраны черты невозвратимого прошлого, то образ рассказчика скорей напоминает нам Румпельштильцхена, чья жизнь продолжается лишь до тех пор, пока его имя остается неизвестным. Румпельштильцхен сам, проговорившись, называет свое имя. Воздух над берлинскими кварталами, которые в описании Беньямина, кажется, вот-вот оживут, насыщен смертью. В эти места всматривается приговоренный, и он видит, что они тоже приговорены. Развалины Берлина — реакция на нервные импульсы, возникшие в Берлине 1900-х годов. Но смертоносный воздух — это воздух сказки, и хохочущий Румпельштильцхен — образ сказки, отнюдь не мифа. В своих изящных, пронизанных предчувствием катастрофы миниатюрах Беньямин остался хранителем сокровищ философии, властелином карликов. Примечание Вальтер Беньямин трижды готовил эту книгу к изданию: в 1933, 1934 и 1938 годах. Увидеть ее напечатанной ему не довелось. После войны (в 1950 году) Теодор Адорно, знавший о замысле «Берлинского детства», составил его первое издание по разрозненным материалам сохранившихся рукописей Беньямина и публикациям отдельных текстов в газетах и журналах. В 1981 году в Парижской национальной библиотеке ученые обнаружили многочисленные рукописи Беньямина, которые он, спасаясь бегством от фашистской оккупации, оставил на хранение французскому писателю Жоржу Батаю. Среди этих материалов находился и полный машинописный текст книги, ее последняя авторская редакция 1938 года.