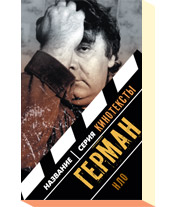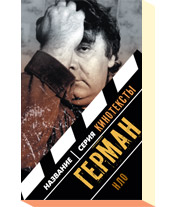Герман: Интервью. Эссе. Сценарий
Антон Долин
Новое литературное обозрение
Фрагмент
Первый парадокс Германа — в том, что он может показаться человеком и художником, зацикленным на себе, лишь со стороны, и очень невнимательному наблюдателю. Себя он исследует с таким же тщанием, с той же въедливой мелочностью, что и эпоху: в его монографических сеансах психоанализа (авто)биограф — чаще врач, чем пациент. Время, как и разговор, дробится на мельчайшие частицы, Герман носится от од? ной крупицы к другой, пытаясь собрать их в единое, неделимое целое. А сам он, пресловутое «Я» художника, которое принято писать исключительно заглавной буквой, в этом времени, пожалуй, вовсе растворяется.
Книг, в которых режиссеры рассказывают о себе и своем кино, бесчисленное множество. Однако все они — вероятно, за исключением бергмановской «Laterna Magica» (но это все-таки монологическая проза, а не диалог: автор обращается к вечности, а не интервьюеру) — строго подчинены одному правилу. Биография в них — соус к основному блюду, а в центре внимания кино. Не обязательно секреты мастерства; это могут быть и смешные случаи со съемочной площадки: презренный жанр, якобы пред? почитаемый журналистами, в реальности рожден самими киношниками. Никто не любит рассказывать о личном. Каждый предпочтет рассуждать о вечном, даже если эти размышления закамуфлированы под ненавязчивый треп. Герман — опровержение этого закона. Он может позволить себе заявить, что кино ему безразлично, а вот вспомнить случайную фразу, услышанную на улице, передать словами цвет чьего-то заношенного пальто, вспомнить лай соседской собаки — о, это совсем другое дело.
Перебить его невозможно. Встрепенувшись, он угрожающе или подавленно спрашивает: «Что, неинтересно?» — и недоверчиво слушает заверения в обратном. Кстати, было интересно. Каждая боковая тропинка, заставлявшая забыть о генеральной линии рассказа, открывала что-то неслыханное, за любым поворотом лабиринта поджидал сюрприз. Но невозможно и переломить режиссерскую волю человека, рассказывающего о том, что важно ему, и категорически безразличного к выстроенному тобой сценарию разговора. Он признает только свои сценарии — даже если в титрах значится кто-то другой.
Герман очень похож на свои фильмы. Не найти лучшего воплощения германовской эстетики и этики, формального метода и философии, чем личность автора. Та же пристальность — дотошная до несуразности. Тот же парадоксальный юмор. То же сочетание высокого с низким, банального с необычайным. Тот же настойчивый, истерически-упорный поиск места, которое может — и должен — занимать в Большой Истории маленький человек. Идеализм. Фатализм. Проза факта. Поэзия подробности.
Рассказ Германа о себе — конечно, еще и роман. Владение словом (бесспорное, хоть и неочевидное в книге, записанной с голоса) — дело десятое. Куда существеннее умение увидеть человека в контексте, почувствовать и описать этот контекст, вписать героя в рамку… но так, чтобы рамка его не заслонила, не сделала слишком незначительным штрихом на монументальном фоне. Этот человек — Герман, но Герман условный, прошедший фильтры авторского сознания, вписанный в бесконечный сюжет. И, в точности как в классической русской прозе, богатство «второго плана», подчас загораживающего «первый», никак и никогда не заглушит одинокий голос человека. Это в кино Герман — неисправимый авангардист. В литературе он — адепт классической школы, пишущий и мыслящий кристально ясно, не допускающий лукавых двусмысленностей. Тот жанр, в котором он ведет рассказ о себе, — не кокетливый модернистский «Портрет художника в юности», а вечно актуальный «роман воспитания».