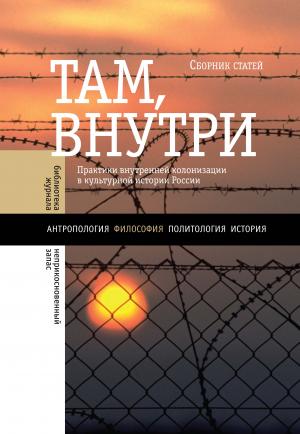
Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России
Новое литературное обозрение
Внутренняя колонизация есть применение практик колониального управления и знания внутри политических границ государства. Это особый тип отношений между государством и подданными, при котором государство относится к подданным как к покоренным в ходе завоевания, а к собственной территории — как к захваченной и загадочной, требующей заселения и «окультуривания», направляемых из одного центра. Такой тип господства использовался многими империями и особенно характерен для России. Поэтому изучение внутренней колонизации позволяет увидеть в новом свете важнейшие особенности российской политики, общественной жизни, литературы и искусства XVIII—XXI веков.
Илья Калинин
УГНЕТЕННЫЕ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ:
МАССОВЫЙ ПРИЗЫВ В ЛИТЕРАТУРУ
И ФОРМИРОВАНИЕ
СОВЕТСКОГО СУБЪЕКТА,
1920-Е — НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ
«Советская субъективность» и дискурсивные механизмы, стоящие за процессом ее становления, стали предметом интереса западной (и прежде всего американской) славистики начиная со второй половины 19902х годов. Этот интерес явился результатом особой исследовательской оптики, согласно которой советский эксперимент может быть прочитан как сложное, но внутренне единое пространство взаимодействия различного рода дискурсов (от резолюций партийных съездов до личных дневников обычных людей), перформативный эффект которых был направлен на формирование нового типа сознания и самоосознания. Пионеры этого направления — историки Игал Халфин и Йохен Хеллбек, сделавшие основным материалом своих исследований жанры, напрямую связанные с формированием собственного «я», — дневник и автобиографию. Концептуальной рамкой их работ (и работ других ученых, входящих в это направление) стал подход к политическим и социокультурным процессам 1920—1930-х годов как к характерным модерным практикам субъективации, направленным на формирование «сознательных советских граждан», одновременно свободно и интенсивно трудящихся на благо новой социалистической отчизны. Практиками такой субъективации могли быть «...политическая агитация, образовательная политика и меры перевоспитания, направленные на “перековку” классово чуждых элементов», равно как и самостоятельное, интимное приобщение к новому социальному режиму через автобиографическое самонаблюдение и самоописание, дискурсивно синхронизирующие становление собственного «я» и становление новой идеологической реальности.
Однако проблема субъективации, реализуемой через приобщение к тому или иному жанру официального дискурса, ставит вопрос о языке, на котором осуществляется эта дискурсивная субъективация, точнее о том, кому принадлежит этот язык и насколько он прозрачен для самого говорящего как в ситуации, когда субъективируемый индивидуум является пассивным адресатом индоктринирующего дискурса, так и в ситуации, когда он представляется личностью, активно формирующей и «осознающей свою индивидуальную идентичность». Поэтому не менее значимым моментом в описании раннесоветской субъективности должна стать концептуализация разрыва, располагающегося между индивидом, обретающим речь, а вместе с ней и субъективность, и тем языком, который делает эту речь социально значимой. Недостаточно просто указать на интенсивность и распространенность в советском обществе 1920—1930-х годов дискурсивных и поведенческих практик «перелицовки самого себя» (self-fashioning), продемонстрировав структурную гомогенность официальных дискурсов пропаганды и приватных тактик формирования «я» и тем самым снимая или обходя вопрос о господстве и принуждении.