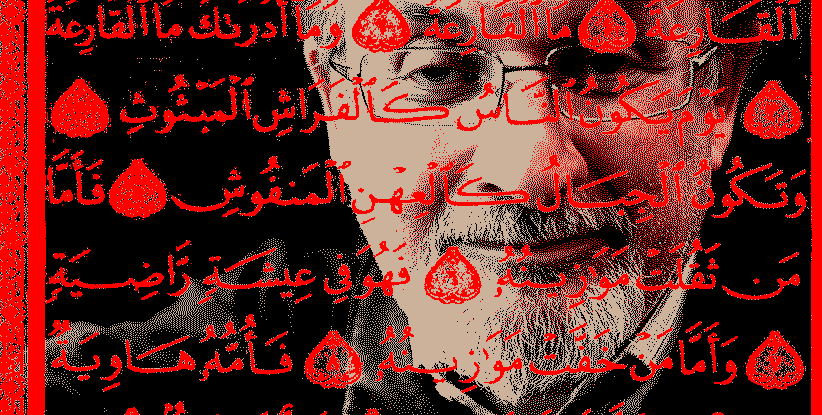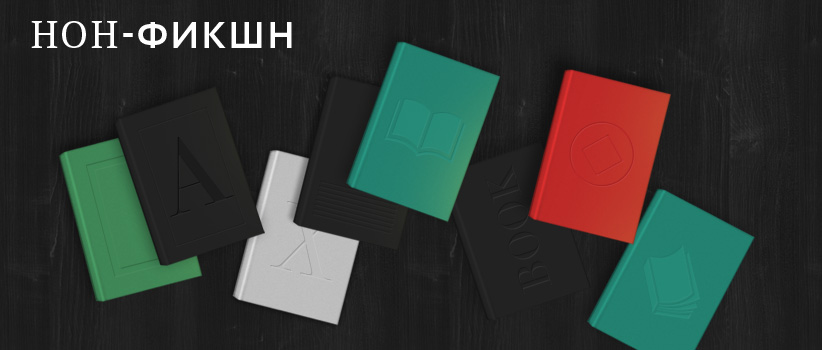Балаклава, писсуар, ризома
Три книги о политически ангажированных художниках.


Pussy Riot исполнили главную мечту радикальных художников: прочертили своей рукой линию политического противостояния и сделали видимым скрытый прежде внутри общества конфликт. Цветная балаклава — отныне боевое искусство гражданского неповиновения для поколения «Винзавода» и «Гаража». Их панк-молебен продолжается каждый день, пока хотя бы одна из них сидит, и о них продолжают спорить.
Эпштейн убеждает нас в их полной невиновности, и в этом он противоположен Славою Жижеку, для которого Pussy Riot ценны именно тем, что виновны по всем статьям. Пафос Эпштейна — винтажное диссидентство со ссылками на Конституцию и разоблачениями советских репрессивных приемов. Для него нынешний политический режим — нечто вроде «православного совка», государственно-церковный конкордат.
Кроме храмового срама и судьбы революционерок, его интересует «автобусная» (по аналогии с «бульдозерной») выставка — Party Riot Bus, организованная другим политическим художником Денисом Мустафиным. Два десятка художников, собирая деньги на адвокатов и показывая свои работы, посвященные «кощунницам», катались по морозной Москве, а за их автобусом неустанно следовал милицейский кортеж. После «автобуса» каждый суд над Pussy Riot пытался перерасти в арт-фестиваль, который жестко пресекался властями. Например, уже в автозаке поэт Кирилл Медведев ухитрился снять клип на свою песню «Стены», ставшую после этого гимном новых протестов. Фактически в этом сезоне поддержка «банды Толокно» — самый быстрый способ поссориться с государством. Было заведено несколько новых дел в отношении выражавших солидарность художников. Но движение поддержки по миру оказалось гораздо шире и мощнее, чем в России.
Геральд Рауниг. «Искусство и революция. Художественный активизм в долгом двадцатом веке»

Немецкий активизм и венский акционизм, который вдохновлял в 90-х художника Кулика кусать людей, обратившись в отчаянную собаку. Эйзенштейн, Третьяков и Брехт с их спорами о монтаже аттракционов и новой организации эмоций. Сюрреалисты, футуристы, экспрессионисты, флюксус — каждое новое направление предлагало свой способ служения революции. Сейчас им на смену пришли феминистские перформансы и арт-сквоты. Особенно впечатляют Раунига бродячие театральные караваны под лозунгом «Искусство – медведица, кусает, кого захочет!», агитировавшие на австрийских площадях против победивших правых в начале нулевых годов. Уличная акция нарушает привычный порядок городской жизни, как знак из другого языка, вторгшийся в знакомый текст. Знак языка возможных, но вечно ускользающих отношений.
Рауниг много цитирует Антонио Негри с его идеей о бесконечно разнообразном «множестве» идентичностей и связей, альтернативном глобальной логике денег. Его вдохновляют мексиканские сапатисты, и он предвидит эпоху постнациональных сетевых восстаний, в сценарий которых идеально укладываются и «арабская весна» и движение «Оккупай». Перевел книжку известный питерский поэт Александр Скидан.
Дмитрий Гутов, Анатолий Осмоловский. «Три спора»

В 90-х Осмоловский прославился как акционист, куривший сигару на плече каменного Маяковского. Тогда его часто уличали в скандальной саморекламе. Гутов же известен как эстет с тонкими прозрачными работами — вроде облака бадминтонных воланов, навсегда зависших в воздухе. Недоброжелатели часто журят его за то, что он ходит на встречи с президентом и выставляется на Николиной Горе, на что Гутов отвечает в том смысле, что художник всегда должен быть на стороне реальности, «даже если это реальность Термидора».
В нарочито старомодной форме переписки двух знатоков они обращаются к трем важнейшим темам: реализм, абстракция, отношения с религией. Известна фраза Гутова: «Атеист не тот, кто рубит иконы, а тот, кто в них разбирается». Их задача — обеспечить самих себя актуальной теорией. То, что у большинства художников сегодня в голове идеологическая каша, представляется авторам именно политической проблемой, а не просто недостатком знания.
Ссылаясь на Делёза и Ленина в одной и той же строке, Осмоловский рассматривает сложную судьбу авангарда: он левый, но не советский. По Гутову же, именно проигравшая соцреалистическая сторона приобрела сейчас связь с вечным и человеческим как таковым. Художник бессилен перед прозой буржуа, и в этом главная причина заката живописи. Строго осуждая некритичную «лимоновщину», Гутов находит в истерично бунтующем искусстве заранее заданное поражение и желание дороже продать себя истеблишменту. За вдохновением он постоянно обращается к фигуре Лифшица — советского бичевателя авангардистских ересей в искусстве. Но Осмоловский ловит собеседника на авангардистском же присвоении. Лифшиц – нечто наиболее далекое и потому наиболее желанное для экспансивного авангардиста, так Дюшан когда-то присвоил себе как автору стандартный писсуар, провозгласив его произведением искусства. В Лифшице и консерваторах Осмоловского раздражает восприятие «авангарда» как единой целостности, к которой можно однозначно отнестись. Он предпочитает проводить границы «своего» и «чужого» не между явлениями, но внутри них.
Свободно переходя от наскальной живописи и прерафаэлитов к галерее Гельмана и европейским биеннале, собеседники анализируют взаимную риторику, терапевтически иглоукалывая друг друга.
Им нравятся фундаментальные вопросы: является ли гипнотичность полезным инструментом или реакционным эффектом? Истина в искусстве и борьба за нее – политическая? Социальная роль художника в обществе – это диагностика? терапия? компенсация? Может ли быть сегодня заново изобретен реализм или авангард и как они будут выглядеть? Кто, как, в чьих интересах присваивает сейчас советскую систему образов? И наконец, что произойдет с искусством, когда художникам станет полностью ясна их роль и механика воздействия.